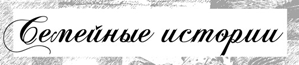 |
Хмельницкая Тамара Юрьевна (Вспоминания Л. Кумпан)
Я пришла к Тамаре Юрьевне Хмельницкой в апреле 1956 года. Мне было поручено передать ей пригласительный билет на наш поэтический вечер - вечер ЛИТО Горного института. Адрес Т. Ю. Хмельницкой был тогда: Загородный проспект, д. 21, кв. 41. Мы все помним эту комнату... Все, кто что-либо сочинял в шестидесятых годах - стихи, прозу, статьи, драмы, рецензии. Даже музыку. Даже о музыке. Даже о театре. Даже - увлеченные переводами с языка на язык... Все помнят Загородный проспект напротив Ивановской (Социалистической) улицы, странный промежуток между домами, как будто хотели продолжить Ивановскую чуть дальше, через перекресток, да раздумали, и образовался бесформенный пустырь. На нем периодически то возникал, то пропадал, вновь возрождался пивной ларек, а справа от него была парадная Тамары Юрьевны. Это был самый обычный петербургский, линялый, доходный в прошлом дом. В прошлом и на Ивановской, вместо бассейна, была Стоюнинская гимназия , где училась Тамара Юрьевна, ставшая со временем студенткой, а затем и аспиранткой Зубовского института (Института истории искусств на Исаакиевской площади) .
Ученица Бориса Михайловича Эйхенбаума и Юрия Николаевича Тынянова , страстная спорщица на семинарах, она изображена в романе "Вечера на Васильевском острове" Вениамином Кавериным как "аспирантка, делающая шею". В гимназии с ней вместе в одном классе училась Елена Сергеевна Долгинцева , ставшая впоследствии известным математиком - Еленой Сергеевной Вентцель , а еще позже известной всем писательницей И. Грековой (математический псевдоним!). Дружба их с детства. Кстати, на той же Ивановской улице встречала Тамара Юрьевна и гениального своего современника Дмитрия Шостаковича . Он был соседом этих барышень по району и учился рядом с ними. Тамара Юрьевна не раз вспоминала его гимназистом, точнее - школьником. Поднявшись на пролет по пологой лестнице дома 21, мы попадали в квартиру под номером 41. В прошлом и квартира эта принадлежала родителям Тамары Юрьевны. Но их долго уплотняли в послереволюционные времена. А после блокады, в которой Тамара Юрьевна потеряла родителей, и после войны, в которой она потеряла мужа Ивана , ее, оставшуюся одинокой, так уплотнили в ее собственной квартире, что она оказалась в одной комнате. Там-то мы ее и застали в 50-х годах. Комната напротив входной двери... Комната, где в красном углу сохранена была круглая печка-голландка, которую Тамара Юрьевна с нечеловеческими муками топила в годы блокады. Комната, глядящая двумя окнами в типичный петербургский двор- колодец... Я хорошо помню пейзаж, если позволительно будет так выразиться, который открывался из ее окон: узкая, бессолнечная клетка двора, далее видны были: арка в следующий двор, облезлые стены дома, еще более линялого со двора, чем с улицы, крыши каких-то низких строений, столбцы дров, которые потом на наших уже глазах, когда провели центральное отопление, сменили помойные баки... Между рамами окон Тамара Юрьевна хранила скоропортящиеся продукты. Холодильника у нее долгое время не было. Холодильник был в те времена, во- первых, - роскошью, во-вторых - его почти невозможно было достать. Такое чудное, сейчас забытое слово бытовало в ту счастливую эпоху... Кстати, все, что мы видели из окон Тамариной комнаты, было изображено на картине, написанной маслом и висевшей на стене. Это была работа Ивана Михайловича Петровского (1902-1941) . Он был художником, и познакомились они в Академии художеств, где Тамара в молодости работала в библиотеке... Помню, что когда мне посчастливилось быть читателем этой библиотеки много позднее, я все присматривалась к одной из сотрудниц, мне казалось, что она похожа на Тамару Юрьевну в юности. Во всяком случае, она напоминала мне Тамару на портретах Ивана. Он много ее рисовал. Особенно удались ему мгновенные карандашные рисунки и акварели. Меньше нравились нам портреты маслом, хотя и они были полны мастерства и очарования. Обычно, сидя у Тамары Юрьевны, мы разглядывали ее портреты. Трудно было оторвать взгляд от них - наша Тамара Юрьевна, увиденная глазами любившего ее человека, изображенная в баснословные предвоенные годы, канувшие в Лету... Вот она за роялем, вот читает, опустила глаза в книгу, вот, облокотившись на стол, заглядывает в рукописи (эту акварельку Тамара Юрьевна подарила мне), вот она с разлетевшейся прической, с рассыпавшимися волосами - вероятно, уронены шпильки... Шпильки, кстати, рассыпались часто, и гости, к смущению Тамары Юрьевны, лазали подбирать их под стол. Глеб Семенов при этом произносил: "Десять шпилек под стол уронив...". А лучше всего удались Ивану две карандашные головки. На одной Тамара с очень знакомым всем нам выражением лица, в котором спорят ирония, ум, упрямство, энергия и... растерянность. Другая - полная противоположность: Тамара, укутав шею в ворот халата, дремлет за книгой. Безусловно - главным в этой комнате были картины Ивана! Удивительные картины... Тут и выцветшие акварели: пейзаж с красной крышей, синеватые сугробы Павловска... И особенно замечательна была - коза! Она, казалось, стояла посреди стены среди прочих рисунков и акварелей, стояла как живая и как вкопанная на великолепном июньском, довоенном зеленом лугу, чуть тронутом сенокосом. И как в центре одной стены была коза, так другой центр, на другой стене, слева от двери, представлен был маленьким черно-белым рисунком, кажется - тушью. "Бегство". Помнится, это мы его так назвали... В какой-то зловещей черноте на рисунке мчались... нет, не люди, пожалуй, а странные существа на велосипедах... И не совсем на велосипедах, а на каких-то адских машинах, этакие кентавры XX века! Какой провидческий сон увидел Иван в канун войны, с которой ему не суждено было вернуться! Не случайно в этой комнате в те предвоенные годы сиживал один странный человек, поэт и тоже провидец - Алик Ривин . Он читал хозяевам стихи: "Вот придет война большая, мы запрячемся в подвал...". И он погиб в блокаду... Как мы любили эту неправильной формы комнату в два окна, напротив окон - входная дверь на скошенной стене: причуды архитектуры питерских доходных домов! Платяной шкаф справа от входа, видавшая виды оттоманка - слева. В шкафу кроме обычных вещей, которым положено там храниться, спрятан бывал для очередного гостя растворимый ("безразмерный" - как мы его называли) кофе в баночке и драгоценные запасы рыбных консервов. В характере Тамары Юрьевны не только не было и в помине каких-либо атавизмов скупости, но была щедрость и размах, которые умиляли, удивляли и даже расстраивали ее друзей. Денег-то, между прочим, было не слишком много!.. Лидия Яковлевна Гинзбург любила вспоминать историю о том, как они как-то раз небольшой компанией встречали Новый год и для какого-то блюда не хватало лимона. А тут не лишне, заметить, что в те времена часто из магазинов что-либо неожиданно пропадало, при этом никогда невозможно было предугадать, что пропадет в следующий раз и через сколько времени появится снова. И появится ли вообще когда-нибудь... Так вот, пропали лимоны, и вдруг звонит Тамара Юрьевна и ликующим голосом сообщает, что она купила лимоны: "Десять штук! Этого хватит!" Лидия Яковлевна при этом прибавляла: "Нет, лимоны - это не по ее части... В "Симфониях" Белого Тамара Юрьевна понимает гораздо больше!" А однажды, я помню, Лидия Яковлевна во время какого-то очередного застолья у Тамары Юрьевны подняла тост за хозяйку: "Давайте выпьем за Тамару Юрьевну! Я ее давно знаю, но с годами она становится все лучше и лучше!" Рядом с этими сугубо материальными ценностями в комнате располагался, занимая чуть ли не половину всего пространства, рояль!.. Мы уже не застали Тамару Юрьевну играющей. После блокады, после смерти родителей, гибели Ивана - она уже больше не играла. Но иногда играли у нее, кое-кто из гостей владел этим искусством, и тогда Тамара Юрьевна собирала нас на эти концерты. Помню прелестную пианистку, с которой дружила Тамара Юрьевна. Она, бывало, играла для нас целыми вечерами. Мне особенно запомнился Шуман в ее исполнении. Обычно же рояль был одет в попону. Что еще?!. Трюмо в простенке между окнами и перед ним китайские вазы. Старый ампирный гарнитурчик: диван, о бронзовые накладки которого все гостьи рвали бесценные тогда чулки и колготки, и несколько кресел и стульев... Ну, а остальным в этой комнате были книги. Они были всюду: на полках и на подоконниках, на шкафу, в шкафу, в сундуке и на старинном круглом столе, где они возвышались шаткими столбиками, однако столбики эти смело тянулись к потолку, то есть к недосягаемой высоте потолка солидного петербургского доходного дома. Книг не было только на рояле. Рояль вообще сохранялся в странной для этой комнаты безмятежной незаваленности. Да, забыла сказать! На рояле иногда играл Рид. Импровизировал, когда бывал в настроении... Рид Грачёв , кажется, единственный из нас владел роялем. К роялю поэтому приглашался иногда настройщик. Так вот - книги... О них, о книгах в доме у Тамары Юрьевны, можно говорить долго. О них написана была Глебом Семеновым целая поэма!..
Иногда во время беседы какой-нибудь из книжных столбиков обваливался, рушился с глухим шорохом, как небольшой снежный оползень в горах, иногда засыпал гостя, иногда сползал под ноги хозяйке. Впрочем, Тамара Юрьевна прекрасно ладила с этими столбиками и безошибочно ориентировалась в сложенных таким образом книгах. Она с завидной ловкостью вытягивала откуда-нибудь снизу нужную книгу, при этом на поиски и размышления почти не затрачивалось заметного времени. И, Боже, сколько часов мы провели в этой комнате! Мы приходили поодиночке и влюбленными парами, дружескими компаниями и одинокими пилигримами, вернувшимися из дальних мест, прятались от жен, встречались с разведенными мужьями, приносили сюда свои исповеди, которых хватало иногда на целую ночь до утра, приходили с единомышленниками и знакомились здесь иногда с людьми из другого стана, что тоже было увлекательно, но все-таки главное состояло в другом... Главное было в том, во-первых, что мы в те баснословные года не любили расставаться друг с другом, искали крышу для того, чтобы сидеть вместе, смотреть на друзей, слушать друг друга и обсуждать нами написанное. Мы приходили не с пустыми руками, мы приносили нечто и очень нуждались в том, чтобы прочесть это нечто и обсудить. А прочесть Тамаре Юрьевне было особенно увлекательно, ибо... Вот, пожалуй, в этом и было все дело... На этом "ибо" надо, я думаю, остановиться особо... Конечно, доброта и отзывчивость, которую мы встречали в этом доме, дорогого стоят. Оригинальность человека, особенно такая сильная и полная обаяния, какую Бог с щедростью отвесил Тамаре Юрьевне Хмельницкой, тоже, что и говорить, привлекает. Но при всем при этом у Т. Ю. был еще особый талант, которым похвастаться могут очень немногие: "сопереживание вслух" - так определил его Глеб Семенов , один из ближайших ее друзей. Это был талант не только выслушать человека, не только сказать о прочитанном нечто нетривиальное, но еще и нечто отгадать, провидеть и объяснить, растолковать это нечто самому автору. Тонкость реакции Т. Ю. на услышанное или на прочитанное всегда была поразительна, причем именно мнение, высказанное ею спонтанно - в приватном ли разговоре, в публичном ли обсуждении (скажем, на заседании секции, или на вечере в Доме писателя, или во время публичной лекции) - было особенно тонко, оригинально и особенно всегда филигранно оформлено словесно. Высказанное устно было не сравнимо с ею же написанным текстом, а тем более - с опубликованным, прошедшим цензуру. В написанном и опубликованном эта тонкость суждения каким-то странным образом увядала... Вообще, свою напечатанную, опубликованную продукцию Т. Ю. Хмельницкая очень не любила, ибо редакторы всегда стремились свести ее писания к какому-то более банальному и общепринятому стандарту. Так было и с ее не очень многочисленными книгами, и с ее рецензиями и статьями, которые так и остались рассыпанными по журналам и сборникам. Так было даже с ее научными исследованиями. Чудо ее таланта в напечатанном, опубликованном виде ослабевало. При поправках увядала нетривиальная тонкость ее суждений, неожиданность отгадок, терялся путь, которым она шла в своих исследованиях, который приводил ее к открытиям. Но был все-таки один письменный жанр, в который (слабая надежда!) никто не вмешивался в те глухие времена и в котором Тамара Юрьевна была свободна и необыкновенно сильна, - переписка с друзьями... Письма ей тоже очень удавались, ибо в них она так же, как в устной речи, дышала свободно и бесцензурно. Утешает, что письма, к счастью, сохранились, письма, на которые Тамара была очень щедра. Написанные чрезвычайно оригинальным и трудно читаемым почерком, письма ее были всегда наградой тому, кто все-таки преодолевал эти трудности, разгадывал клинопись идущих наискось по странице строчек, от верхнего левого угла с датой и обращением - до нижнего правого, чуть загнувшегося уголка, где обычно прятался и находил себе убежище какой-нибудь оторвавшийся от материнского тела союз, вроде "и" или "а". Тот, кто находил силы преодолеть сии трудности расшифровки, погружался в увлекательнейший мир ее рассуждений. И я думаю, что когда письма Тамары Юрьевны Хмельницкой будут опубликованы, они не только наградят читателя интересной информацией, осевшей в них, не только от этих листочков повеет живой силой прошедших лет, но они увлекут именно своей талантливостью. Я думаю, что в письмах можно будет открыть не просто критика, не только литературоведа, но и писателя, тонкого эссеиста, зоркого наблюдателя, каким безусловно была Тамара Юрьевна Хмельницкая. Да, Тамара Юрьевна Хмельницкая была гением устной рецензии или рецензии, изложенной в приватном письме. Именно поэтому она была незаменимым собеседником и лектором-импровизатором. Она, между прочим, прирабатывала в библиотеках обзорами текущей иностранной литературы - и как повезло ее слушателям! - хотя такие обзоры были в старые времена пустой формальностью. Найдите описание ее лекции в повести И. Грековой "Маленький Гарусов" ! Очень тонко все подмечено, описано и объяснено. Кстати, там же вы найдете и точно схваченный портрет юного Рида Грачева , который был из всех нас особенно близок Тамаре Юрьевне и любим ею той нерастраченной на небывших детей материнской любовью.
А выступления Хмельницкой на заседаниях секций (прозы, критики, поэзии, перевода), когда, скажем, разбиралось творчество кого-нибудь из молодых авторов или кого-то из коллег, - да за ней просто надо было носить магнитофон! Да у кого они тогда были - магнитофоны?!. Сколько утраченных перлов, сколько потерянных ассоциаций, сколько рассеянных анекдотов!.. Каждое ее выступление всегда бывало шедевром, и как жалко, что все это сохранилось только в нашей памяти. А память - организм очень несовершенный, а со временем убеждаешься, что еще и коварный!.. Одним словом - когда мы, только что прочитавшие нечто, сидели в ее обществе за ее чайным столом, ожидая суда, Тамара Юрьевна всегда разворачивала перед нами картину нашего опуса нам совершенно незнакомую или, наоборот, уж такую сокровенную, о которой мы сами едва догадывались, а превратить в словесность и не пытались. Этот суд был всегда моментом сотворчества. И я, когда вспоминаю те беседы, только тогда и жалею, что перестала писать стихи! Из вечера в вечер (а вечера всегда были расписаны, забиты до отказа!) Тамара Юрьевна вела нас по собственному нашему творчеству как подрастающих котят. Это сравнение тем более уместно, что она и вскармливала физически нас. Знаменитое, незабываемое Тамарино "бутербродное начало"! Мне кажется, что Тамарочкин круглый стол был накрыт всегда - на случай, если кто-то зайдет без предупреждения. На это Тамара Юрьевна тратила все свои деньги. Однажды она призналась мне, что после блокады у нее появилась потребность - вы, может быть, подумали, есть, - нет, кормить. Я назвала это "кормительным рефлексом". Для нас эта привычка Т. Ю. пришлась очень кстати. Мы были нищие, молодые и всегда голодные. Наши "старики" - они были, строго говоря, тоже нищими, но все-таки более устроенными, чем мы. Мы были еще и, как правило, бездомными... Ах, эта знаменитая раскладушка у родителей. Нет, нигде нам не было так легко, так уютно, как у них, у наших "стариков". Нигде мы не чувствовали себя столь защищенными от погоды, от недоедания, от эпохи... Защищенными, да еще и поднятыми на Олимп! Выстроить бы всех ныне знаменитых петербургских, московских (и не только) писателей, которые вскормлены бутербродами Тамары Юрьевны и воспитаны проведенными с ней бесценными вечерами, частенько переходящими за полночь... Длинная, однако, очередь бы получилась! И пусть в ней, в этой длинной очереди, соседствуют и те, кто теперь "в той стране, где тишь и благодать", и те, кто только готовится переселиться туда, те, кто не покидал своего отечества, и те, кого судьба раскидала по странам и континентам... Собраться бы еще разок всем и от всей нашей общей души сказать спасибо - за ту комнату, за тот круглый стол, за то, не знающее отдыха и усталости, незабвенное пастушество над нами! Мы всё помним, Тамара Юрьевна!
Далее см. Из писем Т. Ю. Хмельницкой Л. Кумпан

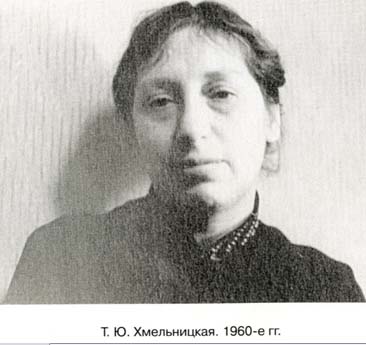
Ссылки: